| Дым Отечества |
24 ноября 2007 года |
Дом у дороги

Александра Изъюрова. 2007 г.

Василий Изъюров. 1913 г.

А. Изъюрова с сыном Алексеем. 1945 г.
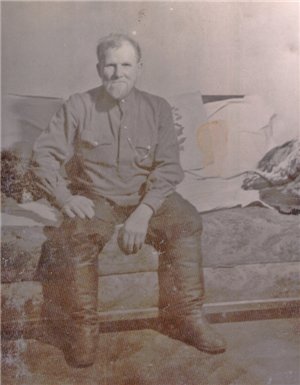
Николай Александрович Изъюров. 50-е годы.
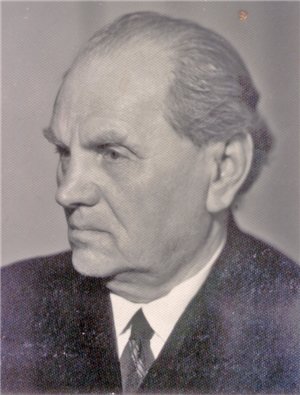
Василий Александрович Изъюров. 1966 г.

Николай Александрович Изъюров. 1915 г.

Александра Николаевна Изъюрова.
Почти ушедший в землю, старый дом притулился возле центральной дороги села Корткерос. Дом как дом, таких, доживающих свой век, но все еще крепких, не поддающихся гнету времени, немало встретишь в наших северных селах. Правда, большинство из них оставлены жильцами, необитаемы. Уже одно то, что над разменявшей столетие корткеросской хороминой каждое утро вьется дымок, делает ее исключением из правил. Удивительна судьба и хозяйки этого дома Александры Николаевны Изъюровой, которая хранит память о крепких некогда корнях и раскидистой кроне крестьянской семьи Изъюровых. Из этого дома у дороги пролег путь в большой мир и в большую науку крестьянского самородка – Василия Изъюрова. Еще до революции он стал первым уроженцем Коми края, окончившим университет в Соединенных Штатах Америки. А после возвращения в Россию был пионером электрификации железных дорог, внедрения многих других технических новшеств. Было у матери 18 чад... С улицы этот старый дом в Корткеросе сейчас поражает разве что большими по сельским меркам, почти в два метра, окнами. Такой «частокол» стекол в обрамлении белых наличников имеет далеко не каждый из его сверстников даже в Сыктывкаре. Очутившись под его сводами, удивления перерастают в сплошной поток. Крестьянским избам в исторической литературе сопутствуют эпитеты «низкий», «приземистый». А тут от пола до потолка в каждой из трех просторных комнат никак не меньше четырех метров. Поражают своей громадой печи-великаны. И добротно сработанная, хотя и незатейливая, меблировка. «Все дедово да отцово, – говорит, показывая свои хоромы, хозяйка Александра Николаевна Изъюрова и добавляет: – Да только лишили их всего на долгие полвека, отобрали, выгнали...» Горькие слова Александра Николаевна произносит как-то буднично просто, без надрыва. Многочасовому рассказу о семейной эпопее и драме Изъюровых тоже сопутствует спокойный, ровный тон. Испытания, доставшиеся на долю Александры Николаевны, другого бы согнули, а лицо и сердце избороздили морщинами да рубцами. А она, как в старину говаривали, ликом светла, не по возрасту проворна, легка на подъем. С трудом веришь, что в следующем году женщина 90-й день рождения отметит. Чем объяснить такую метаморфозу? Да, наверное, той закалкой, которую наши соотечественники обретают, пройдя через шквал трудностей и испытаний. Еще родными стенами, которые Александре Николаевне, по ее признанию, жить помогают, старость отодвигают. Мать Александры Николаевны – Екатерина Кузьминична – 18 раз ходила на сносях. А люлька, подвешенная к потолку, в доме Изъюровых никогда не пустовала. Но крестьянский труд, жатвы да сенокосы часто не оставляли хозяйке времени даже на детей. Досаждали и всевозможные болезни. А на сельском погосте один за другим вырастали маленькие свежие холмики. Александра, по рассказам взрослых, появилась на свет на плоту: после сеностава семья Изъюровых возвращалась по реке Локчим домой. Через пару-тройку дней, оставив младенца на попечении бабушки Христины Петровны, мать снова заторопилась на сенокос. Дом гудел ульем. Кроме Сашеньки у Изъюровых росли еще четверо братьев и две сестры. В начале века их постигло несчастье – сгорел дом. Тогда и порешили поднять новый, на две семьи. В передок с высокими потолками вселился Николай Александрович, еще две комнаты обжили его родители. Сколько воды утекло, а в Александре детство по сей день отзывается трудом и достатком. С шести лет стали ее брать на сенокос, даже крохотную косу-горбушу отец для дочери сладил. Во дворе стояла большая длинная баня: в одной половине мылись-парились, в другой – женская половина семьи трепала лен. Нелегкое дело, а как представишь себя в новом сарафане в престольный день – руки шибче заработают. Хождение по мукам Эти картинки сменяют другие, из другого времени. Брату Степе в школу идти пора. А у него рубашки нет. Отыскала бабушка кусочек материи да и всплакнула: «Шить-то нечем, швейную машинку унесли». Словно окаменевшая, мама, сидящая на длинной скамье у окна, никак на причитания не отреагировала. Дом превратился в проходной двор. Приходили какие-то люди и брали что под руки попадется: запасы хлеба, семена ржи, ячменя, самовар... Пусто стало в хлевах, где еще недавно было тесно домашней живности. Разобрали и увезли куда-то баню. Потом забрали отца. Сказали, что он твердое задание по лесозаготовке не выполнил. С этого же времени дети все чаще стали замечать пустоту и отрешенность в глазах мамы. Перестала спориться в ее руках и работа. Отправили ее в больницу. Александра Николаевна все это рассказывает односложно, без комментариев и объяснений. Наверное, из-за того, что сейчас все пережитое ею не составляет тайну, раскрыто, рассказано на множестве примеров. А может, и потому, что прочувствовать весь трагизм, постигший их семью в конце 20-х годов, она не могла в силу своего малолетства. То, что семья Изъюровых подошла к краю пропасти, девочка почувствовала лишь тогда, когда бабушка предложила убежать в Москву. К этому времени Изъюровы лишились и дома. Вернее, той его части, в которой проживала семья Николая Александровича. Стариков родителей из их половины «выкуривать» все же не стали. А в обобществленных комнатах, выгнав «кулацких» детей, поселили других – открыли ясли. Путь до Москвы для Александры Николаевны проступает как сквозь далекую, зыбкую пелену. Сколько людей, впечатлений... Удивляла бабушка, которая, не зная русских слов, всегда находила земляков – «поводырей». Бабушка в Первопрестольной поселилась у дочери Анны, работавшей машинисткой. А Сашу приютила семья инженера дяди Васи, бабушкиного сына. Его жена объяснила юной родственнице, что муж в командировке. Она лишь позже узнала, что за этими словами скрывалось недавнее заключение в лагерь и последующая за ним негласная ссылка. Но ей тогда и в голову не приходило проявлять к чему-то постороннему повышенный интерес. Да и некогда было – помогала родственникам. Потом пошла работать на завод «Красный богатырь», где из резины резали ходовую для страны обувь – сапоги и калоши. Здесь же, в Москве, Александру застало известие о войне. На заводе сформировали отряды из работниц, дежуривших по ночам на улицах и крышах домов. Вместе с подружками коми девушка тушила зажигательные бомбы. В сентябре 1941 года ее мобилизовали в трудармию. Возле Царицыно рыли противотанковые рвы. К Москве из близлежащих районов пригоняли стада скота. Девчонкам из трудармии кое-что перепадало, кормили их раз в день мясным супом. Потом перевели в Можайск. На подступах к нему уже вовсю шла война, с неба оборонительные рубежи «поливали» свинцовые дожди. Страх сжимал сердце. А живот сводило от голода. Как-то целую неделю к девчонкам-трудармейцам ни разу не приезжала полевая кухня. Забившись в щели, они сосали зажатый в кулачках снег. И прощались с жизнью. Вдруг трудармейцев отпустили на все четыре стороны. Кое-как добрались до Москвы. А здесь их уже никто не ждал. Не были предусмотрены для них и продовольственные карточки. Разыскала Александра старшего брата Василия, тоже прибившегося к Москве, устроившегося работать шофером. Тот высыпал в ручки сестре две горсточки сухарей, положил две луковицы. Все, чем был богат. Возвращение крова Снова пошла Саша на завод. Но вскоре оборудование с «Красного богатыря» сняли, погрузили на платформы, повезли в Сибирь. А молодая работница решила навестить родину. Поезд шел долгих 16 суток. Вышла девушка на станции Княжпогост. Здесь жила старшая сестра Фекла. Она и устроила ее работать телефонисткой в лагере. Сошлась с «вольным» заключенным Наумовым, сын Лешка родился. Но смышленый малыш недолго радовал маму, умер от менингита. Дочь Галя, появившаяся следом, помогла пережить утрату. В череде однообразно тяжелых, голодных лет светлым стал день 9 мая. В прилагерном поселке все вольнонаемные собрались в клубе. Кипел самовар, кто-то пел, кто-то плакал. А в памяти Александры, сменяя друг друга, проплывали лица братьев. Их всех унесла война. Самый младший, Степан, погиб в начале войны. Лишь одна весточка – почтовая карточка – пришла с фронта от Алексея. Сложил голову в бою танкист Александр. Сильную контузию получил доставлявший из Москвы на передовую грузы Василий, после Победы всего два года жизни было отпущено ему судьбой. В войну же не стало и бабушки, когда-то спасшей младшую внучку от расправы над «кулацкой» семьей. Второй муж Александры – Павел Израильский – тоже был бесконвойным заключенным. В лагере он и пропал, словно в воду канул. Жене сказали, что его куда-то отправили этапом. В поисках мужа молодая женщина с детьми рискнула поехать даже на его родину, Украину, но никаких следов его пребывания нигде не обнаружила. Приехала в Корткерос. Дом к тому времени все еще венчала вывеска «Ясли-сад». Мать после пережитых потрясений так до конца и не оправилась. Пересидевший несколько сроков и возвратившийся домой отец обивал пороги всевозможных инстанций, заступался за дом. Возвращению его хозяевам поспособствовало то, что сильно прохудилась крыша, кругом текло, щели задувал ветер. Детский сад перевели в другое здание. Семья Изъюровых наконец вселилась в обветшавшие, пропитанные чужим духом, но все равно родные стены. Дядя Вася Весть о том, что Изъюровым вернули дом, облетела всю родню, раскиданную по стране. Младшая сестра Александры, Клавдия, жила в Ленинграде. Но больше всего родственников у корткеросской семьи было в Москве. Здесь же проживал и родной брат хозяина дома Николая Александровича Изъюрова – Василий. Тот самый дядя Вася, в чьем доме останавливалась после приезда в Москву Александра. Брат Вася для ее отца был самым главным после родителей человеком. Хотя братья расстались очень рано. Один остался в Корткеросе, жил, крестьянствовал, страдал... А второй, покорив мир, возвратился в Россию, укреплял ее мощь... Вот только дома побывать ему удалось всего несколько раз. Василию Александровичу Изъюрову, как говорится, на роду было написано быть ученым. Крестьянский сын с отличием окончил городское училище в Усть-Сысольске, недолго проработал сельским учителем. В годы первой русской революции судьба закинула его в Ярославль, где, будучи работником мануфактурной фабрики, принимал участие в забастовках. За что и поплатился. Получив за неблагонадежность извещение об увольнении, на перекладных (автостопом, как сказали бы сейчас) доехал до края земли – до Владивостока. Молодого корткеросца увлекала мысль получить образование. Но в бурлящей России, к тому же с «запятнанной» репутацией бунтаря, дорога в вузы была закрыта. Устроившись на океанский пароход, Василий добрался до американского континента. Но, чтобы сойти на берег, требовалось выложить в качестве индульгенции около ста долларов. Такую сумму заработать он не успел. Но охота, как говорится, пуще неволи. Одолжил деньги у своих товарищей и ступил на землю обетованную. Недостатка в рабочих местах здесь тогда не было, Василий устроился землекопом где-то на границе США и Канады, заработал сто долларов, отдал долг. В это время в Америке стали активно проектироваться и строиться электрофицированные железные дороги. На одну из них, близ Сиэтла, и устроился работать Василий. Одновременно поступил в Сиэтлский университет, на электротехнический факультет. У племянника Василия Александровича – живущего в Сыктывкаре Ивана Павловича Изъюрова – хранятся снимки того периода. На одном из них дядя Вася запечатлен в сюртуке со знаками отличия технического вуза. Настоящей реликвией стал другой снимок, где он одет в мантию и четырехуголку со свисающим помпоном выпускника престижного американского университета. Его высочество Электричество Дипломированного инженера взяли работать на железную дорогу. Но Василий Изъюров мечтал уехать на родину. Рассказывают, что всего за несколько дней до начала Первой мировой войны он успел возвратиться в Россию. И окунулся с головой в работу. Трудился в Харькове, Петрограде. После революции знания молодого инженера-электротехника тоже были нарасхват. Его пригласили на знаменитый завод «Динамо», где конструировались и строились моторы для паровозов, а затем и электровозов. Изъюров стал одним из инициаторов создания трамвайного парка в стране, входил в инициативную группу по созыву всесоюзного трамвайного съезда. В это же время он проектировал и первые в СССР электрофицированные железные дороги. Многие его научные разработки и идеи были обнародованы на страницах журнала «Электричество». Другая сторона жизни Василия Александровича – постоянное недоверие к «спецу» новой власти и НКВД. Не только из-за полученного в Америке диплома, но и происхождения. В его личном деле, которое уже после смерти отца показали сыновьям Изъюрова, он фигурирует как сын кулака, лишенца. На заметку взяли все «погрешности», не упустили ни одну встречу. Так, в деле фигурирует связь Изъюрова с неким П.Рыбиным, секретарем батьки Махно. Оказывается, с этим человеком Василий Александрович познакомился в Америке, в одно время там вместе работали. В России Рыбин однажды ночевал у него. Но это трактуется не иначе, как пособничество белым. После революции В.Изъюров три раза выезжал в заграничные командировки – в Австрию, Германию, Голландию, Америку. Понятно, что там встречался с коллегами, обсуждали технические новшества. Тут тоже не обошлось без компромата. Кто-то донес, что в Америке инженер-электротехник плохо отзывался о наших моторах ДПЭ-160, из-за которых на Северной железной дороге случилось несколько аварий. «Изъяны» нашли и в первой в СССР книге «Курс электровозов», автором которой был Изъюров. И в работе кафедры по электрической тяге в МВТУ им.Баумана, который он возглавил. Кстати, здесь же Василий Александрович впервые в нашей стране создал лабораторию электрической тяги и курсы по электрическому подвижному составу. ...В 1933 году Василия Александровича посадили в тюрьму. Держали в одиночке. Сохранилось письмо, в котором он пишет, что одолели фурункулы. Просил пересмотреть дело, так как не видел повода, чтобы его, специалиста, отстранили от дел, «тогда как на Каширском электровозостроительном заводе очень нужны его знания». Одновременно он согласился и с некоторыми из выдвинутых против него абсурдных обвинений. Видимо, пытался оградить от преследований жену и двух сыновей. Инженера приговорили к пяти годам лишения свободы и отправили по тому же маршруту, который он в юности уже преодолевал. Конечным пунктом пути на этот раз стал для Изъюрова Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь ОГПУ. Здесь, в поселке Свободный, он оставался три года. В лагере без дела не сидел. Итог его трехлетнего заключения, можно сказать, впечатляет. Сыновьям Василия Александровича, очень дорожащим памятью об отце, удалось заиметь копию увесистого труда – чертежи и обоснование электрофицирования БАМа. Эту работу заключенный инженер из Корткероса сделал за несколько десятилетий до того, как Байкало-Амурская магистраль была объявлена всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Своя правда В 1936 году Василий Изъюров получил досрочное освобождение. Но в Москву ему путь был заказан. Начались скитания по стране. Днепропетровск, Кисловодск, Омск, Нижний Тагил... В годы войны опальный инженер очутился в Башкирии, где работал прорабом на хлебном элеваторе. Потом был Стерлитамак. Работая здесь, он сконструировал электромобиль. Попадал и на нефтепромыслы. И везде находилось дело, которое его увлекало. Кстати, почетную грамоту он получал, еще будучи в БАМлаге. Но наградами путь талантливого инженера отмечен почти не был. По словам родственников, ему несколько раз предлагали вступить в партию. Но он каждый раз отказывался. Считал, что дело, которому он служит, далеко от идеологии. И партбилет ему ни к чему. Прочерк в графе «партийность» служил препятствием к присвоению наград и званий. Возвратившись в Москву, Василий Александрович стал работать в энергетическом институте, защитил кандидатскую диссертацию. Напряженная работа оставляла мало времени для отдыха. Дачу у семьи Изъюровых, когда Василий находился в заключении, отобрали. Сдавало здоровье. Много сил для поддержания мужа прикладывала его жена Клавдия Николаевна, биолог по специальности. Супруги часто слали письма в Корткерос. Василий Александрович как мог заботился о детях своей племянницы Александры. Когда ее сын Иван окончил школу, пригласил в Москву. Очень хотел, чтобы он пошел по его стопам, связал свою жизнь с энергетикой. Но он «разминулся» со стезей дяди, окончил автодорожный техникум. Зато дипломы энергетического института получили две внучки Изъюрова. Одна сейчас живет в Москве, другая в Израиле. В 1957 году Василий Александрович получил долгожданную реабилитацию. До конца своей жизни он напряженно работал. Уже будучи в преклонных годах, активно занимался переводом с русского на английский и с английского на русский технических книг и статей. Василий Изъюров умер в 1971 году 86 лет от роду и был похоронен на Кузьминском кладбище в Москве. 85 лет жизни было отпущено и его брату Николаю Александровичу. В Корткеросе еще помнят этого крепкого, красивого старика. После реабилитации он работал завхозом в школе. Осталось в памяти, как он при встречах стыдил жителей села, которые когда-то разжились его имуществом. Но никто возвратить чужое добро не поспешил. В конце концов он махнул на все рукой. Довольствовался тем, что умирать будет в своем доме. Разъехались дети Александры Николаевны. Осталась она одна в отцовских хоромах. Без дела никогда не сидела. Жизнь не дала ей возможности выучиться. Поэтому пришлось испробовать на своем веку десятки работ. Перед пенсией много лет трудилась банщицей в Корткеросе. Со смехом рассказывает, как ей спускали план по помывке. А выполнить его не всегда удавалось. Тогда она из своего кошелька выкладывала деньги за недобранных и «невымытых» посетителей сельской бани. Руководство оставалось довольно. А что до денег, то, по ее словам, это дело наживное. Жалеет лишь о том, что сейчас в райцентре закрыта общественная баня. А своей она так и не обзавелась. «Вот как жизнь повернулась, – безо всякого сетования рассуждает пожилая женщина. – Конечно, неудобно, плохо от такого отношения к людям. Но я перевидела столько на своем веку, что на многие мелочи и внимания не обращаю. Ведь жизнь дана человеку всего лишь раз». Анна СИВКОВА. с.Корткерос |