| Дым Отечества |
24 августа 2013 года |
Парк пермского периода/ Находки на северо-востоке России 115 лет назад произвели в мире научную сенсацию


В.П.Амалицкий.
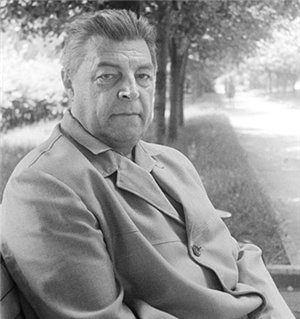
И.А.Ефремов.
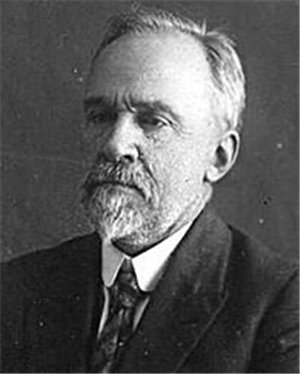
П.П.Сушкин.

В.Амалицкий с сотрудниками возле останков позвоночного реликта.
Летние полевые экспедиции археологов, геологов, палеонтологов нередко приводят к научным сенсациям. Немало таких открытий, потрясших российский и мировой научный мир, произошло в ХХ столетии при исследовании недр нашей республики. А еще задолго до этого, 115 лет назад, в 1888-1889 годах, настоящей сенсацией мирового масштаба обернулась экспедиция к соседнему с Коми краем городку Котласу, территория которого раньше входила в состав коми земель, а сам населенный пункт назывался по-коми Пырас. При раскопках континентальных отложений пермской эпохи здесь были обнаружены гигантские остатки ископаемых животных и растений. Позже они составили так называемую Северо-Двинскую галерею в палеонтологическом музее Академии наук СССР. Своим открытием и изучением это научное сокровище о прошлом Земли обязано замечательной плеяде российских ученых, маршруты экспедиций которых пролегали и по Коми краю. В 1898 году в очередной раз наведавшийся на Север выпускник Петербургского университета, ученик знаменитых ученых В.Докучева и А.Иностранцева геолог Владимир Амалицкий сделал поразительное открытие. В отложениях пермской эпохи на берегах Сухоны и Северной Двины в «мертвых, безжизненных» отложениях он обнаружил скопление останков животных и растений, которые отыскать в северных недрах никто даже не предполагал. Потрясающая новость, вскоре облетевшая весь мир, доказала давно вынашиваемый В.Амалицким научный прогноз об общем развитии в эпоху перми органического мира как на северных, так и южных широтах. Обнаруженные им возле Котласа кости парейазавров и дицинодонтов полностью подтвердили его предположения. Владимир Прохорович Амалицкий родился в 1860 году на Волынщине. Рано оставшись без отца, он нашел живое участие в семье дяди, брата матери, который привез мальчика в Петербург. После окончания гимназии Владимир поступил в университет, где с первых же курсов на него обратили внимание преподаватели, а великий Докучаев третьекурснику Амалицкому уже доверял вести практические занятия по кристаллографии. После окончания университета Владимир с В.В.Докучаевым отправились в экспедицию по исследованию земель Нижегородской губернии. Первая же экспедиция стала во многом определяющей для молодого исследователя. В Нижегородской губернии распространены континентальные отложения пермской эпохи. В отличие от морских, где в изобилии встречаются органические останки доисторических животных, материковые толщи считались «мертвыми». Поэтому русские геологи если и занимались их изучением, то без особой надежды на находки. В.Амалицкий, наоборот, с рвением принялся за изучение «немых» песчаников и суглинков. Уже вскоре его упорство было вознаграждено: в материковых отложениях он нашел немало раковин моллюсков. Это открытие способствовало его превращению из геолога в палеонтолога и определило дальнейший вектор исследований. В 1880 году магистр геологии В.П.Амалицкий переехал в Варшаву, где возглавил кафедру в университете. Новые место жительства и научная среда не охладили пыл ученого по исследованию пермских отложений на берегах северных рек. Он вновь посещает Нижегородскую губернию, предпринимает поездки в Вологодскую и Олонецкую губернии. Особое внимание ученого приковывают верхнепермские отложения северо-востока России. В них он находит остатки флоры, идентичные с континентальными отложениями Южной Африки, Индии, Южной Америки. Амалицкий едет в Англию, чтобы, изучив экспонаты Британского музея, найти причины одинаковых отложений на территориях, расположенных очень далеко друг от друга. А возвратившись на родину, высказывает идею, которую его современники назвали фантастикой. Владимир Прохорович утверждает, что не только растительный, но и животный мир в эпоху верхней перми был одинаков как для Южной Африки, так и для севера России. Доказывать эту «утопическую» идею берется сам. Все летние месяцы с 1895 по 1898 год он проводит в экспедициях по берегам северных рек: Сухоне, Вытегре, Северной Двине. Геологические экспедиции завершаются сенсациями. Сначала в Нижегородской губернии ученый обнаруживает останки дицинодонтов, распространенных в Южной Африке. А вот как на одном из интернет-сайтов описаны находки В.Амалицкого в экспедиции 1897 года. «На Северной Двине В.П.Амалицкий обнаружил среди пестрых глин огромные линзы рыхлых песков, содержащие стяжания твердого песчаника, так называемые конкреции. Большинство конкреций оказались пустыми. В поисках фауны ученый перебил столько конкреций, что, по его выражению, «полученного щебня хватило бы на большой участок хорошего шоссе». В нескольких конкрециях оказались отпечатки листьев прекрасной сохранности. Эти листья принадлежали глоссоптерису, совершенно не отличимому от находившихся в изобилии в Южной Африке». Но самые долгожданные результаты принесла экспедиция 1898 года. У деревни Ефимовская, близ Котласа, ученый нашел не только множество превосходных отпечатков листьев глоссоптериса, но и челюсть звероподобного пресмыкающегося парейазавра. Эти реликтовые гиганты до тех пор были извлечены лишь из пермских отложений Южной Африки. Палеонтологические раскопки возле Котласа в 1899 году были продолжены. Начало экспедиции не увенчалось находками. Но уже вскоре многолетние усилия ученого-энтузиаста воздались сторицей, полностью подтвердились и его «утопические» идеи. Пять цельных скелетов крупных млекопитающих горгонпсий и парейазавров, пять менее полных останков, множество скоплений черепов и костей, принадлежащих рептилиям и древним земноводным – стегоцефалам. Общий вес добытых ископаемых организмов потянул на 1200 пудов. Общность развития органического мира двух удаленных друг от друга уголков, Южной Африки и Севера России, была доказана. В последующие годы В.Амалицкий открыл по Северной Двине еще несколько месторождений с останками позвоночных реликтов. Огромная работа легла на плечи ученого и по обработке своих находок. Каждую из них требовалось освободить от наслоений, препарировать. Сотрудников, специализировавшихся по этому новому виду деятельности, еще не было, Амалицкий сам подыскивал работников, учил их. На него же легла и многолетняя утряска проблем, связанных с передачей всей коллекции Российской академии наук, где для экспонирования гигантских скелетов обещали изготовить витрины. Начавшаяся империалистическая война заставила ученого спешно покинуть Варшаву, «сокровища мирового масштаба» Амалицкий вывез в Нижний Новгород. Переживавший за судьбу коллекции, он тяжело заболел, а в конце 1917 года, будучи на лечении в Кисловодске, умер. Судьба уникальных северодвинских находок вновь привлекла внимание ученых лишь после окончания Гражданской войны. Под началом президента Академии наук СССР А.П.Карпинского была создана специальная комиссия, которая занялась устройством коллекции в Ленинграде, в геологическом музее. Хранителем уникальных палеонтологических находок здесь стал академик П.П.Сушкин. Петр Петрович Сушкин и Владимир Прохорович Амалицкий принадлежали к одному поколению российских ученых. Но если страстью второго было изучение ископаемых останков древних обитателей флоры и фауны, то первый еще в бытность студентом Московского университета «заболел» орнитологией. Изучение птиц приводило будущего академика в разные уголки страны и в крупнейшие научные центры Европы. Около 12 лет продолжалось исследование пернатых Сибири, кроме того, фундаментальные работы ученый посвятил птицам Киргизской степи, Уфимской губернии. Главные же экспедиции П.Суш-кин совершил на Алтай и в Монголию, где собрал огромную разнообразную коллекцию. Монография, написанная после этих экспедиций, по мнению специалистов, стала на многие годы настольной книгой зоологов всей страны. С 1922 года маститый ученый занялся систематической обработкой северодвинской коллекции, собранной В.Амалицким, одновременно возглавляя орнитологический отдел в Зоологическом институте. К нему однажды и пришел молодой человек, пораженный прочитанной в журнале «Природа» статьей о палеонтологии. Академик сразу же почувствовал живой, неподдельный интерес своего собеседника к загадкам природы и научному поиску. А после проведения экскурсии по геологическому музею распорядился поставить в своем кабинете стол для молодого человека, разрешив ему приходить в музей и заниматься в любое время. Юным сподвижником академика стал Иван Ефремов, автор фантастического романа «Туманность Андромеды», выход в свет которого ознаменовал новый вектор в развитии и литературы, и науки. Известный писатель, автор множества рассказов, повестей, романов, Иван Ефремов был одновременно крупным ученым, доктором биологических наук. А на научную стезю он вступил, можно сказать, со встречи с академиком Сушкиным в его кабинете. Первыми научными объектами для молодого исследователя стали окаменевшие кости, обнаруженные и привезенные из-под Котласа. Академик научил Ефремова препарировать останки, отделяя от них породу. В качестве препаратора он и был зачислен в Зоологический институт. Уже вскоре, в 1926 году, увлеченный наукой сотрудник отправляется в палеонтологическую экспедицию самостоятельно. А к 1935 году Ефремов является автором 35 научных работ. К слову, во время экспедиции в Татарию ему удалось найти в толще земли останки зверообразных рептилий, рыб, амфибий, цельные скелеты древнейших обитателей флоры и фауны этих мест. Позже, в 40-е годы, И.Ефремов стал родоначальником новой отрасли в палеонтологии – тафономии – что с греческого переводится как «закономерность могил». Иван Ефремов принимал участие в более 20 палеонтологических и геологических экспедициях. Известно, что некоторые его маршруты проходили и по Коми республике. К примеру, известно, что будущий писатель-фантаст занимался исследованием берегов Печоры. Позже, оставив работу заведующего отделом древних позвоночных в Палеонтологическом институте, о своих экспедициях к «драконовым костям» ученый-писатель живо и увлекательно написал в книге путевых заметок «Дорога ветров». Анна СИВКОВА. |