| Дым Отечества |
27 августа 2011 года |
Зеленый шатер Льва Зильбера/ Для выдающегося ученого-вирусолога ХХ века путь к научным высотам пролег через печорские лагеря
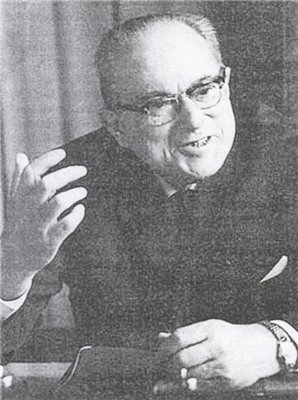


Л.А.Зильбер в своей лаборатории в Институте эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи. 50-е годы.

Л.А.Зильбер и З.В.Ермольева. Крым, начало 30-х годов.

На здании вакцинного корпуса в Москве, где многие годы работал Лев Александрович Зильбер, открыта мемориальная доска.

Юрий Тынянов, Лев Зильбер, Борис Михайлов - студенты Петербургского университета. 1913 г.
Российский ученый Лев Александрович Зильбер – личность
в научном мире очень известная, титулованная. Основоположник отечественной вирусологии, почетный член многих зарубежных академий, лауреат Сталинской и государственных премий СССР... В своих мемуарах наряду с другими титулами и наградами ученый приводит еще одну, казалось бы, полностью выпадающую из перечисленных выше, – «пахан». Высшего чина
в уголовной иерархической лестнице маститый ученый удостоился в одном из сталинских лагерей, когда подрался в камере с верховодившим там авторитетом, сильно намяв ему бока, что избавило политических от бесконечных унижений. Власть силы, продемонстрированную Зильбером, признали тогда и другие уголовники. После этого инцидента
он и удостоился лагерного звания «пахан». В лагерях, где ученый провел большой отрезок своей жизни, в полной мере раскрылись и другие качества этого незаурядного человека. Главные из них – непрекращающийся научный поиск, всеохватная жажда познания. Некоторые из своих многочисленных открытий Лев Зильбер сделал, будучи подневольным печорских лагерей. Даже здесь, находясь в экстремальных условиях, он не изменил своему принципу, который можно сформулировать так: «В фундаментальной науке нужно быть первым или никаким». Профессор Винберг Судьба этого человека настолько потрясающа, что как будто напрашивается в роман или сценарий кинофильма. Возможно, какие-то ее детали, коллизии кто-то из биографии Зильбера уже вычленил, переосмыслил, включил в канву своего произведения. Поклонники известной российской писательницы Людмилы Улицкой схожие с Львом Александровичем жизненные перипетии разглядели в одном из героев ее последнего романа «Зеленый шатер». Как известно, он посвящен советским диссидентам. Хотя это и художественное произведение, но в его сюжет включено немало документального, реального, невыдуманного. А в некоторых героях, несмотря на «собирательный образ», можно разглядеть конкретную личность. Таким образом в литературном персонаже Эдвине Яковлевиче Винберге и разглядели ученого Льва Александровича Зильбера. «Вот он-то, Винберг, и был настоящим профессором, блестящего образования. И престранный: любил поговорить о науке. Хлебом не корми, задай только вопрос, и он полную лекцию прочитает. От него доктор Дулин услышал такое, что в советских учебниках не написано: и про доктора Фрейда, и про архетип, и про психологию толпы... Чуть ли не 20 лет в лагерях, после смерти Сталина реабилитировали – взят был по ошибке, как оказалось. Он вышел и быстро-быстро, за несколько лет, занял свое законное место – не в карьерном, конечно, смысле, а в научном. Сколько лет провел в лагерях. Казалось бы, что он там, врачом в «больничке», мог как ученый наработать, а оказалось, не то что вровень с современной наукой, а как будто даже и впереди: две монографии сразу написал, и присудили ему докторскую без защиты... Авторитет непререкаемый. Но не для всех. Ненавистников было достаточно. Не всем нравилось, что этот чужак из чужаков, мало того что еврей, еще и немец, развил свои баснословные учения и держался с таким европейским самоуважением, которого почти и не водилось в отечественных широтах». «Профессор радовался своим собственным рассуждениям, растирал чистые шелушащиеся ладони медицинским движением, как перед осмотром пациента: – Забавно, забавно! Надо начинать с биохимии, я думаю... – и ни с того ни с чего смеялся, показывая свои сплошь металлические зубы, поставленные еще в Воркуте местным стоматологом, уроженцем Вены». «В восьмом часу вечера, выходя из института, вспотевший, обсохший и окруженный облаком боязливого пота Дулин столкнулся с Винбергом. Прямой, тощий, в потрепанном сером костюме с шелковым галстуком в полоску, в одеколоновой дымке – элегантный, как всегда... – Не в галстуке дело, конечно, – отметил про себя Дулин. – Природа такая...» «Эдвин Яковлевич осекся, засмеялся и вышел из кухни. Достал из портфеля виолончельную сонату и поставил на проигрыватель. Вера уже сидела в кресле в комнате, которая условно называлась большой. Это было самое раннее исполнение. Впоследствии, в пятидесятом, Шостакович записал эту сонату с Ростроповичем и немного даже ее изменил относительно первоначальной версии. Большие уши Винберга с кустами доставшихся от далеких предков волос как будто даже шевелились от напряжения. Вера Самуиловна, квалифицированный слушатель, и прежде считала, что Даниил Шафран богаче и многоцветней, чем Ростропович. Муж ее слышал в этой музыке другое: бескомпромиссность, драму внутренней конфронтации. – Безысходность. Космическая безысходность. Не правда ли, Вера?» Блестящий ученый, прошедший сталинские лагеря, интеллигент с «европейским самоуважением», тонкий знаток и ценитель музыки, искусства, загнанный в тиски тоталитарного режима... Все это указывало на почти зримое присутствие в романе Л.Улицкой Льва Зильбера. Наконец, фамилия Винберг в чем-то тоже созвучна фамилии выдающегося ученого. Два брата, две повести Л.А.Зильбер родился в 1894 году в Пскове. Его отец Абель (Александр) Зильбер служил капельмейстером 96-го пехотного Омского полка. Жена капельмейстера Хана (Анна) Дессон владела музыкальными магазинами. С раннего детства ученого сопровождала музыка, которая с возрастом переросла в страсть, в непреложную константу ежедневного бытия. Из шестерых детей Лев был старшим. «Старший брат» – так позднее назвал автобиографическую повесть самый младший в семье Зильберов Вениамин, известный в СССР писатель Вениамин Каверин, автор популярных «Двух капитанов». Повесть «Старший брат» как раз и посвящена Льву Зильберу и содержит немало интересных деталей и штрихов к его личности. Стоит сказать, что членом этой семьи был еще один известный в Советском Союзе писатель Юрий Тынянов, женатый на Лее Зильбер, сестре Льва и Вениамина. В 1912 году Лев Зильбер окончил с серебряной медалью Псковскую губернскую гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. С 1921 года стал сотрудником института Нарком-здрава в Москве. Затем последовала работа в Закавказье, в Баку. Будучи здесь, врач впервые оказался в эпицентре страшной эпидемии – чумы, охватившей один из глубинных районов Нагорного Карабаха. В повести «Старший брат» В.Каверин писал, что Лев был талантлив во всем. Признавал его первенство даже в литературе, сравнивая стиль брата с манерой классика американской литературы Грэма Грина. Высокую оценку В.Каверина получила автобиографическая повесть «Руда», написанная Львом по свежим следам как раз той самой эпидемии чумы в Нагорном Карабахе. Зильбера с группой медиков откомандировали туда на борьбу с заразой. Справиться с бубонной чумой оказалось чрезвычайно сложно. Люди умирали семьями, болезнь не щадила и врачей. Все это время, находясь в смертельной опасности, Зильбер искал источник болезни, ее первопричину. В повести «Руда» Зильбер «живописует» эпицентр эпидемии. Кстати, название «Руда» повесть получила не случайно. Слово «чума» в открытую в телеграммах писать было нельзя, поэтому в ходе ликвидации эпидемии его зашифровали под «руду». Район эпидемии был оцеплен, сотрудники ГПУ еще бдительнее, чем доктора, искали причину заражения. И отыскали. Однажды один из сотрудников «недремлющих органов» сообщил Льву Александровичу, что чума дело рук вражеской разведки. Мол, это их агент откапывает на кладбище трупы людей, умерших от чумы, берет у них органы и ими заражает здоровых. «Как же он при этом остается жив и невредим?» – попытался оспорить Зильбер сказанное бдительным сотрудником. Но тот в ответ приказал идти с ним на кладбище и лично удостовериться в подлинности сказанного. Дело происходило ночью. При свете луны на кладбище выкопали десять могил. Действительно, у нескольких жертв эпидемии отсутствовали сердце и печень. «Отсечь» происки иностранной разведки Зильберу все же удалось. Благодаря тесному общению с местными жителями. Через них-то он и узнал, что извлекла органы у умерших знахарка. По поверью, это якобы помогало остановить заразу. Доктора выявили и настоящую причину возникновения очага болезни. Ее разносчиками стали грызуны, перебравшиеся сюда из районов, где уже прошла эпидемия. Когда болезнь отступила и врачи уже готовились к отъезду, власти потребовали от них сжечь дотла каменное здание местной больницы. Никакие заверения докторов, что в палатах безопасно, здание полностью дезинфицировано и сможет еще долго прослужить на благо местных жителей, в расчет не принимались. Жгите, да и только! Тогда Зильбер приказал своим сотрудникам вселиться в палаты обреченного на уничтожение здания и оставаться в его стенах столько, сколько потребуется для положительного решения вопроса. Эта несгибаемость и помогла отстоять больницу в горном селе. Коварная метаморфоза: несколько лет спустя по доносу о попытке заражения энцефалитом городского водопровода в Москве Л.Зильбер был арестован в первый раз. Украденное открытие До этого молодой ученый создал центральную вирусную лабораторию при Наркомздраве РСФСР, ставшую первым подобным учреждением в стране. Всего три с лишним года и успела просуществовать эта лаборатория, ставшая легендарной и ознаменовавшая поворотную веху в отечественной медицине. В 1937 году ее сотрудники отправились на Дальний Восток, где свирепствовала неизвестная болезнь, поражавшая центральную нервную систему людей. Долго не удавалось установить причину ее происхождения. «После длительного расспроса одна из больных вспомнила, что за 10-14 дней до заболевания она собирала в тайге прошлогодние кедровые орехи и, вернувшись домой, обнаружила у себя впившихся клещей, – писал возглавлявший экспедицию Л.Зильбер. – Этот единственный факт, с которым можно было связать ее заболевание, естественно, привлек мое внимание». Теория клещевого энцефалита, выдвинутая ученым в очаге эпидемии, тут же им и его сотрудниками обоснованная, поражает даже современных исследователей. В течение 20 дней научная гипотеза прошла путь до практических мер по спасению людей. В истории российской вирусологии столь значительного открытия не случалось по сию пору. Для ученых во всем мире Л.Зильбер был и остается непререкаемым авторитетом. На труды Льва Александровича в своей нобелевской речи в 2008 году ссылался немецкий ученый Г.Темин. В 2009 году академика Льва Киселева – сына Л.Зильбера – благодарила за труды его отца группа американских ученых, удостоенных Нобелевской премии... А в 1937 году, когда последовало это открытие, его автора, образно говоря, «сровняли с землей». Навесив чудовищное обвинение в попытке отравления энцефалитом москвичей, Л.Зильбера бросили в тюрьму. Само же его открытие присвоило себе... НКВД. Талантливый ученый, как и многие другие, прошел через все круги ада. Его пытали, сломали ребра, отбили почки... Спасли от гибели отличная физическая форма, занятия в детстве и юности футболом... Да, возможно, еще провидение. Ну никак не мог погибнуть, сгинуть человек, уже существенно обогативший науку, призванный претворить в жизнь и другие гениальные идеи... В Печору Лев Зильбер попал в начале Великой Отечественной войны, когда в глубокий тыл начали перевозить из западных районов «врагов народа». О последнем переходе до лагпункта, когда вдвоем с конвоиром они доплелись, поддерживая друг друга, полностью выбившиеся из сил, ученый вспоминал как о самом тяжелом испытании. Прибыв на место, врачи, знавшие Зильбера, поставили перед ним тарелку борща. Это растрогало его до слез. Способность Льва Александровича после перенесенных испытаний быстро приходить в себя не оставила его и в лагере. Уже вскоре в письме к родным он патетически рисовал красоты северных пейзажей и вдохновенно цитировал А.Фета: И плачу сладостно, как первый иудей, На рубеже земли обетованной. Дрожжи из ягеля и пробки из коры. В северных лагерях последовали новые открытия. Зная, что олений мох – ягель – содержит много углеводов, Лев Зильбер организовал производство дрожжей. Дрожжи были источником витаминов для ослабших заключенных, особенно в лазаретах, на инвалидных командировках. Затем из ягеля начали делать спирт, тоже необходимой для лагерных больниц. Приходилось преодолевать массу проблем, чтобы вырвать из тисков смерти хотя бы некоторых подневольных. Инъекции дрожжей для лечения авитаминоза и дистрофии в другие лазареты передавали в бутылочках. Но тут встала вообще-то простая, но почти не выполнимая в лагерных условиях проблема: эти бутылочки было нечем закупоривать. Тогда Зильбер и еще один «враг народа», член-корреспондент Академии наук СССР профессор П.И.Лукирский нашли выход. Они научились обрабатывать кору деревьев, после чего она становилась эластичной и служила надежным герметиком. И изготовление дрожжевых инъекций, и их закупорка заинтересовали не только медперсонал многих лаготделений, но и лагначальство. Вопрос о подкожном лечении дрожжами обсуждался даже на съезде лагерных врачей, организованном за полярным кругом. Сын ученого Лев Львович Киселев в статье «Феномен Зильбера» писал: «Кажется неправдоподобным, однако тому есть документальное подтверждение: Зильбер в лагере на Печоре получил авторское свидетельство на собственное имя за способ получения дрожжей из ягеля. После этого изобретения его вызвал в Москву нарком здравоохранения. Но на просьбу наркома об освобождении начальник следственной части ответил отказом: будет отбывать срок целиком. Предложили работу в лаборатории по изобретению бактериологического оружия. Отказался. Бывшая жена З.В.Ермольева, академик, микробиолог, первая в СССР получившая образцы антибиотика, хлопотала об освобождении. В марте 1944 года Сталин «помиловал» ученого «за особые заслуги перед наукой». Рукопись на папиросной бумаге Бывший заключенный Печорлага добьется мирового признания, станет академиком медицины, председателем комиссии экспертов всемирной организации здравоохранения по вирусологии и раку, будет награжден медалью «За выдающиеся заслуги перед наукой и человечеством». Многие последующие успехи начали складываться здесь, в Печоре, куда двух докторов – Зильбера и Комлева – перевели в 1943 году из лагпункта Мишаяг. В лаборатории СЭС Лев Александрович ночи напролет проводил над исследованиями по вирусно-генетической природе рака. Эти же проблемы поглотили его и в «шарашке» в Москве, куда ученого перевели из Печоры. Свой труд он писал на тончайшей папиросной бумаге остро отточенным карандашом тайком от всех, разработав специальную технику выведения микроскопических букв и особый способ прятать бумагу. Солидный труд размером с пуговичку он сумел передать во время свидания З.Ермольевой, применив отвлекающий маневр: как бы случайно уронил на пол носовой платок, поднимать который и бросился не спускающий с него глаз надзиратель. В это самое время миниатюрная рукопись оказалась в руках пришедшей на свидание женщины. Такой способ конспирации Зильбер перенял в лагерных «университетах» у воров. И успешно применил его, попросив Зою Виссарионовну напечатать работу под псевдонимом. Вскоре пришло долгожданное освобождение, и псевдоним не понадобился, статья вышла под его фамилией. В ней содержалась богатая научно выверенная доказательная база о вирусной природе рака, о чем говорил еще задолго до этого великий русский ученый Илья Мечников. Ко всем собственным лишениям и невзгодам для Льва Александровича прибавилось и неведение о судьбе жены Валерии Петровны Киселевой и двух сыновей. В начале войны, в августе 1941 года, под Истрой они попали в руки фашистов, были угнаны в Германию, все военные годы провели в немецких рабочих лагерях, чудом уцелели. После капитуляции фашистской Германии Зильбер сразу же всеми имеющимися способами стал разыскивать семью. А узнав, что родные живы, помчался в Германию. Радость от обретения близких была столь безмерна, велика, что ученый добился невозможного – вывез семью на специальном самолете. В том же 1945 году Л.Зильбера избрали действительным членом только что созданной Академии медицинских наук, он становится научным руководителем Института вирусологии АМН СССР и возглавляет отдел вирусоиммунологии опухолей Института эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи. В последнем он и работал все последующие годы. Скованные одной цепью После освобождения Лев Зильбер и спасавший его на Печоре врач Борис Васильевич Комлев переписывались. А в 60-е годы возобновилась переписка с сыном выдающегося ученого Львом Киселевым. К сожалению, письма Зильбера к Комлеву не сохранились, их хранить было небезопасно. А письма Льва Киселева теперь хранятся в Печорском историко-краеведческом музее. Супруга Б.В.Комлева Мария Ивановна вспоминала поездку в Москву, когда они с мужем встречались с их другом-академиком: «Лев Александрович встретил нас подтянутый, бодрый, а здесь больной был, грудная жаба у него, нитроглицерин глотал. Представляет меня жене: – Это Машенька. – Та, что тебе чаю на заварку давала? А дело было так. Сидят они после проведенной операции и говорят: «Господи, сейчас бы чаю. Настоящего, грузинского». Чай им давали заваренный в кастрюле, а нам, вольнонаемным, в пачках, по карточкам. На другой день я молча приношу пачку чая. Боже мой! Какой восторг! И это у него в памяти осталось. Многих знакомых по лагерю вспомнили тогда. И, конечно, Петра Ивановича Лукирского. Его считают основоположником эмиссионной электроники, его труды по физике рентгеновских лучей и по ядерной физике широко известны в мире. Академик, лауреат Сталинской премии... А тогда сильно истощенный «зек» поступил в лазарет № 2. Борис Васильевич лечил его, а потом хлопотал, чтобы оставили при санчасти, ссылаясь на знание Петром Ивановичем латыни и понимая, что нужно спасать этого уже немолодого человека. И вот всемирно известный ученый получает должность санитара аптеки и прозвище Дед. Убитый обрушившимся на него горем, растоптанный лагерем, сгорбленный, молчаливый – такой он был первое время в лагере. Ожил Петр Иванович благодаря Зильберу, вовлекшему его в активную научную деятельность. И преобразился человек». В хрущевскую оттепель Л.Зильбер получил возможность принимать в своей лаборатории зарубежных ученых, участвовать в международных симпозиумах. За считанные годы школа Зильбера была признана мировым лидером в области онковирусологии и онкоиммунологии. В честь 70-летия ученого в Сухуми был проведен международный симпозиум, на который съехались выдающиеся ученые со всего мира. Многогранность личности этого человека поражала современников. Высокого, красивого, веселого человека очень любили женщины, он несколько раз был женат. Писал стихи, блестяще танцевал, знал толк в музыке, коллекционировал картины... Наряду с этим был очень мастеровым человеком. Когда в лаборатории ломался прибор, чаще звали не механика, а заведующего. По рассказам, в молодости он был очень силен физически. Но семь лет тюрьмы и лагерей, наглая фальсификация открытия клещевого энцефалита, которую никто не торопился исправить, не могли не сказаться на самочувствии даже такого мужественного человека, как Лев Зильбер. Об уважении к этому высококлассному специалисту и врачу его печорских коллег красноречиво говорит экспонат, хранящийся в Печорском историко-краеведческом музее. Это самодельное кресло, смастеренное специально для Льва Александровича. Оно и письма его сына, академика Льва Киселева, – то немногое вещественное, материальное воплощение незримой связи и долгой памяти людей, скрепленных неволей. ...Писательница Людмила Улицкая свой последний роман назвала «Зеленый шатер», подразумевая под шатром нечто высокое, волшебное, красивое. Достигнуть его чертогов могут лишь избранные: сильные личности, люди, влюбленные в жизнь, в профессию, в своих избранников. Страницы романа густо населены героями, достигающими, по мысли писательницы, зеленого полога или совсем близко приблизившимися к нему. Среди них и блестящий ученый Эдвин Винберг, в котором узнаются черты одного из выдающихся ученых ХХ века Льва Зильбера. Татьяна АФАНАСЬЕВА, научный сотрудник Печорского историко-краеведческого музея. Анна СИВКОВА. На фото: Сухумский симпозиум по специфическим опухолевым антигенам, 1965 г. Слева направо: проф. Б.А.Лапин (СССР), проф. А.Сэбин (США), проф. Л.А.Зильбер, проф. Ч.Саутем (США), проф. П.Н.Грабар (Франция), проф. Х.Копровски (США). |