| Дым Отечества |
30 января 2010 года |
"Погиб под Люботином"/ Это фатальное известие о Луке Никулине не подтвердилось дважды
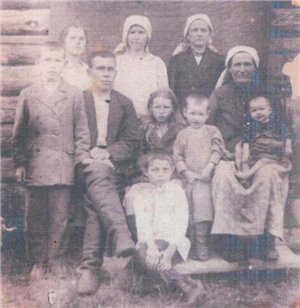
Семья Никулиных. 1936 г.

Лука Федорович Никулин. 2010 г.
По сложившейся традиции на этой странице «Дыма Отечества» публикуются материалы, темы для которых подсказаны нашими читателями или написаны ими. Ломать голову над тем, чему будет посвящена новая серия публикаций под рубрикой «Читатель – газета» в наступившем 2010 году, долго не пришлось. Нынешний год в нашей стране проходит под знаком 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. В победном 1945 году тех, кого называли фронтовиками, ветеранами войны, в СССР насчитывалось более 20 миллионов. Всего около миллиона солдат-победителей смогли перешагнуть в новое столетие и тысячелетие. А сейчас, еще десять лет спустя, их и того меньше. Уходит время, уходят из жизни фронтовики. В нынешний юбилейный год со дня Победы, наверное, есть смысл расспросить каждого из участников Великой Отечественной, рассказать о каждом из тех, кто живет рядом с нами.
В течение всего года в новой рубрике газеты «Они сражались за Родину» мы будем публиковать рассказы о людях, с оружием в руках приближавших Победу. Из уст ветеранов войны надеемся услышать не только подробности их жизненного и боевого пути, но и о самых памятных, драматичных, трагичных эпизодах Второй мировой войны. Все то, что сопутствовало войне, стало ее неотъемлемой частью, закаляло характер бойцов, вымостило дорогу к Победе. Лука Федорович Никулин с 1964 года проживает в Эжвинском районе Сыктывкара, считает себя эжвинским старожилом. Здесь мы и встретились с ним. Теплая, уютная квартира
в «старой» части Эжвы. А хозяин встречает в зимней шапке
на голове. Поймав недоуменный взгляд, объясняет: «Все ничего, но голова в последнее время сильно болит. Гудит что-то там, бушует. Словно все еще на войне нахожусь». Еще до начала беседы из кармана теплой фланелевой рубашки крепкий, статный пожилой человек достает и показывает иконку с ликом своего небесного покровителя – евангелиста Луки. И шапка на голове, и иконка в кармане поначалу вроде как прямой связи с далекой войной не имеют. Но уже вскоре вырастают до символов. Тонкая нить «Я был убит под Люботином» – так начинает свое повествование ветеран войны. Перед этим 18-летний командир пулеметного отделения Лука Никулин уже успел пробежаться по охваченному пламенем освобожденному Харькову. Очищение этого украинского города от фашистов знаменовало окончание Курской битвы. Величайшее сражение, в котором успел принять участие коми паренек, завершилось. Но это была лишь середина войны, ее экватор. Безо всякой передышки 53-я армия Второго Украинского фронта устремилась вперед, на запад. Харьков освободили 23 августа, уже 29 августа от фашистов очистили небольшой городок Люботин в Харьковской области. На следующее утро советские войска проводили на улицах «зачистку», выкуривали укрывшихся в подвалах и на чердаках фашистов. Последнее, что запечатлелось в памяти Луки, – сноп огня. И все. Он погрузился в долгую кромешную пустоту. Лука Федорович впоследствии немало потрудился, чтобы воссоздать события, предшествовавшие этой «пустоте» и сопутствовавшие ей. На послевоенных встречах «пытал» однополчан, разыскал девушек-сестричек из медсанбата, ценой неимоверных усилий возвративших его к жизни. Боец, которому незадолго до последнего боя вручили сержантские погоны, получил раны, почти не совместимые с жизнью. Осколки снарядов буквально изрешетили его бок, застряли в органах, «перепахали» и ребра, и легкие. «Погиб», – решили устремившиеся вперед однополчане, оставив Никулина на «попечение» похоронной команды. Санитары из части, в которой он служил, разминулись с ним, его тело подобрали другие. Но признаков жизни в лежащем ничком бойце не разглядели, увезли «труп» к месту захоронения павших. В это же время в родном отделении составили на Луку Никулина справку, откуда явствовало, что он погиб, «защищая социалистическую Родину». Треугольник с печальной, но обыденной для военных лет новостью «полетел» в Коми АССР, в село Ношуль. Уже у кромки могилы кто-то из санитаров обратил внимание, что один из погибших бойцов подает признаки жизни – то и дело по его телу пробегают конвульсии. На подвернувшемся транспорте его доставили в медсанбат. Долгих 24 дня ни врачи, ни сестрички, обихаживавшие находившегося в забытьи раненого, не могли сказать, есть ли у него на выздоровление хоть один шанс из ста. 24-й день стал переломным. Перевязанный тугими бинтами пациент медсанбата очнулся от теплой струйки, которая скатилась по его лицу. Он понял, что это его слезы. Сразу же обступили запахи: эфира, крови, гноя, пропитавшие медицинскую палатку. Лука силился вспомнить имя матери, название родного села. Но все попытки оказались тщетны. Предаться отчаянию от охватившего беспамятства не давало израненное тело. Даже после того как Никулин пришел в себя, жизнь от смерти продолжал разделять один шаг. Он еще не раз терял сознание, умолкал, казалось, навсегда. К жизни возвращали высокая квалификация военных врачей, сестричка Дуся, дававшая раненому свою кровь. Да, наверное, небесный заступник евангелист Лука. Это «ветхозаветное» имя дал когда-то мальцу ношульский священник Орнатский, расстрелянный в 1937 году. Война и мир Война для Луки Никулина – это несколько ожесточенных боев и долгие месяцы лечения в госпиталях. Медсанбат в Люботине сменили госпитали в Старом Осколе и Харькове. В глубоком тылу – в Баку его поставили на ноги. До сих пор Лука Федорович хорошо помнит, как почти год спустя после ранения впервые выбрался на улицу. Тяжелораненым стены госпиталя покидать запрещалось. Но охота, как говорится, пуще неволи. Через распахнутые настежь окна палаты в больничных пижамах кое-как выбрались на улицу. От обилия света, воздуха кружилась голова. Нестерпимо захотелось домой. Домой, в прилузское село Ношуль, Лука Никулин вернулся списанным с фронта инвалидом. Когда-то, после Гражданской войны, таким же изувеченным, израненным возвратился с фронта его отец Федор Антонович. Он даже ходить не мог, его доставили из Мурашей на подводе. Родная земля и женская забота возвратили к жизни. Рассказывали, что его мать, бабушка Луки, без устали заваривала в деревянной бадье пахучие травы. Длившиеся почти год травяные ванны даром не прошли, отправленный домой умирать Федор Никулин поправился. Мать и сестры Луки тоже, как умели, врачевали его раны. Но излечить от всех нанесенных войной отметин не смогли ни трава-мурава, ни сердечная забота. Несколько осколков из солдатского тела извлекли еще совсем недавно. Его главным врачевателем, не без основания считает Лука Федорович, был возраст. Возвратившемуся с войны фронтовику стукнуло всего 19. Молодость брала свое. Побыв немного дома, он поехал «покорять мир». В Объячево стал… артистом колхозно-совхозного театра. Здесь же и повстречал свою половинку, тоже фронтовичку, Анастасию Стрекалову. После закрытия театра кем только не довелось быть, куда только не забрасывала жизнь. Контролер-ревизор Управления гострудсберкасс, директор Дома культуры, сотрудник МВД, директор кинотеатра… Уже разменяв восьмой десяток, возглавил ветеранскую организацию в Эжвинском районе, увлекся хоровым пением… Все это, казалось, поглощает и свободное время, и силы. Но уже на склоне лет встал Лука Федорович еще на одну колею – исследовательскую. Взялся осмыслить историю страны сквозь призму собственной жизни и своего рода. Несколько лет назад на республиканском генеалогическом конкурсе «Орд пу» родословие, составленное Лукой Федоровичем, было признано лучшим. Причем безо всяких скидок на его солидный возраст и ряды орденских планок на пиджаке. Пышное древо рода Никулиных вобрало не только сотни имен, прозвищ, названия десятков деревень, починков, хуторов, уже исчезнувших с лика земли. Каждую схему родословных ветвей автор снабдил выписками из документов, воспоминаниями, размышлениями. Семейная летопись получилась нешаблонной, интересной, трогательной. Деревянная похлебка Прадед Луки Федоровича по отцу 25 лет нес службу во флоте. Посчастливилось увидеть ему и незабываемое зрелище – коронацию греческого короля. Один из предков брал легендарную Шипку. Другой в Первую мировую несколько лет провел в немецком плену. Бауэры, в чьем хозяйстве он трудился, даже отказывались в 1920 году отпускать его домой. Очень хотели, чтобы именно он остался управляющим имением. А когда пленный уезжал, золотом одарили. Работящие, сильные люди, в поисках более обширных пастбищ и пашен Никулины осваивали ближние и дальние от сел урочища, обосновались в починке. После организации колхозов хуторян призвали отказаться от «самостийности», переезжать в крупные села. Не успел или не поторопился исполнить указание свыше отец Луки – Федор Антонович. За это и поплатился. Хозяина большого семейства, сельсоветского служащего осудили, отправили в Печорлаг. Как и после Гражданской войны, из лагерей возвратился еле живой. Без опоры даже еще ходить не мог, когда снова призвали на войну – Великую Отечественную. На передовую «новобранца»-инвалида не бросили, определили писарем. Всю войну прошел Федор Антонович, дошел до Берлина, лишь в августе 1945 года вернулся домой. А сколько пришлось перетерпеть его жене Марфе Алексеевне, матери Луки Федоровича. После ареста мужа ее с детьми выгнали из хуторского дома. И сослали… в соседний хутор. Там ютились в такой неимоверной тесноте, что даже кошка, как пишет Лука Федорович, не выдержала униженной жизни, убежала из дому и потерялась. Каленым лемехом прошлась Великая Отечественная война и в глубоком тылу, в Прилузье. Две родные тетки умерли от голода. Свыклись с отсутствием хлеба, обманывали голодные животы травой, очистками. За лакомство считалась добытая из-под древесной коры сладкая смола – камбий. Труднее всего было вытерпеть отсутствие соли. При прежней, сытой жизни соль Никулины держали в деревянном корыте. Уже давно с него были сметены подчистую все белые кристаллики. Но голод не тетка. Кто-то додумался распилить корытце, расколоть его на небольшие части. Эти поленьица и добавляли в варившуюся в русской печи похлебку. Хлебали варево с деревянной заправкой да расхваливали. Двум смертям не бывать На фронт Луку Никулина призвали 17-летним. Нынешних юнцов в этом возрасте как-то трудно представить на месте сверстников, выигравших ожесточенные сражения Великой Отечественной. Лука Федорович, похоже, сам удивляется своей военной эпопее. Ведь ему, крестьянскому пареньку, не удалось перед отправкой на фронт закончить даже краткосрочные курсы Устюжского Пуховичского училища. Прямо с занятий бросили в пекло Курской битвы. Еще долго после войны не оставалось времени, не хватало жизненного опыта, чтобы осмыслить пережитое. Лишь на склоне лет ветеран погрузился в изучение хода войны. Своими открытиями он щедро делился. Не счесть, сколько раз выступал перед студентами, школьниками. После войны посещал украинский город Люботин, в котором он, образно говоря, родился заново, в «рубашке». «А однажды я снова погиб. И снова это случилось в Люботине, – рассказывает Лука Федорович. И продолжает: – В 1972 году меня пригласили в одну из школ этого города, чтобы отметить 30 лет Победы. Я дал согласие, купил авиабилет. Руководству школы сообщил дату и время вылета, номер рейса. Вылететь должен был 18 мая. А в ночь с 17 на 18 мая случился сердечный приступ, меня поместили в больницу. 18 мая школьники Люботина пришли встречать меня в аэропорт. Самолет, на котором я должен был прилететь, при посадке потерпел аварию, пассажиры погибли. В школе, узнав эту новость, объявили траур по почетному пионеру Луке Никулину. Вот так, второй раз меня «похоронили» в Люботине. 19 мая через жену отослал телеграмму на Украину, что я хоть и не очень здоров, но все же жив. Осенью навестил своих пионеров. Встреча получилась теплой как никогда». Двум смертям не бывать... Эту аксиому, как, впрочем, и все в этой жизни, Луке Федоровичу Никулину пришлось выстрадать, доказывать собственной жизнью и опытом. Анна СИВКОВА. |